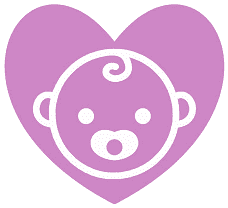Если бы я знала все раньше! Если бы знала… Я бы к ней, как к святой. А то… Если бы я знала раньше…
Если бы я знала все раньше! Если бы знала… Я бы к ней, как к святой. А то… Если бы я знала раньше…
– Палагна! Слышишь, Палагна? Опомнись! Отпусти! Судьбы своей конем не объедешь. И дома все, что угодно может случиться. И с войны возвращаются люди. И я вернусь. Слышишь?
А Палагна ничего не слышала. Палагна истошно обнимала мужчину и шептала: “Твоя ладонь, моя ладонь, а между ними – тепло, мое тепло – твое тепло…” Резко хватала руку Николая, касалась ею своей теплой щеки и лихорадочно, как будто тайную молитву, повторяла слова, которые весною их любви напевал для нее Николай. “Твоя ладонь, моя ладонь…”
– Палагна! Слышишь? Ты же солдатская жена. Не подобает тебе так…
Не слушала. Не слышала.
Силой оторвался от нее. Прытью – в дровник. Вышел с топором в руке. Бесслезными глазами ловила Палагна каждый его шаг, каждое движение. А он остановился перед домом, замахнулся – и острие топора впилось в порог.
– Что делаешь? – Палагна овладела собой, от удара топора притихло ее безумство, и вернулась хозяйская рассудительность. – Что ты делаешь?!
– Зарубку на пороге. Пока смоешь ее – дома буду. Видишь: зарубка неглубокая – выгладишь быстро… А за собой смотри. И дочку не обижай…
Делала, как завещал. Часто мыла полы, а порог – ежедневно. Терла, терла и зажмурив глаза, касалась пальцами зарубки и ощупывала, гладила ее…
Делала, как завещал. Не обижала меня. По ночам тулила к себе и приговаривала: “Твоя ладонь, моя ладонь…”
– Какая ладонь, мама?
– Твоя ладонь, моя ладонь… Подрастешь – и об этом расскажу…
Не обижала меня. Распорола свое последнее платье – для меня пошила юбочку и жакетик. Сапоги свои к сапожнику занесла: “Переделайте на маленькие, для дочки, а за труд – отблагодарю. Пошью что-то детям, перешью, а, может, помочь в хозяйстве нужно?”
Себе же сама сделала обувь на зиму – из старого отцовского пальто пошила бурки: “Обойдусь – только бы ребенок не мерз”.
Ежедневно вымывала порог. Не обижала меня. Только забывала ухаживать за собой. Оставляла это на потом. А здесь уже и война закончилась, уже и вернулись те, которые остались в живых. Отец не возвращался. Перестала мыть порог. Но ежедневно становилась перед ним на коленях, сдувала пыль, и пальцы, долго и судорожно сновали по едва ощутимой зарубке… Усмотрев кого-то на улице, выбегала. Спрашивала – что значит, как понимать: “Исчез без вести”. И при том все ее естество выражало столько надежд, что каждый говорил это спасительное, безграничное, бездонное и обманчивое “может…”
Может… Оно жило в ней, питало ее надежду, оно вело тропинкой ожидания из года в год… Как кто-то, бывало, встретится ей на этой тропинке и хоть издалека, хоть осторожно заводил речь про упадок хозяйства без мужских рук, о ее молодости и о том, что и на лицо она ничего себе, – мгновенно наполнялась обидой, а то и яростью.
– Как смеете мне такое говорить?! Я же – солдатская жена. Могу ли я быть еще чьей-то?..
Знала я, какая болезнь у матери. Знала, что лучше в больнице ей быть – все на месте, все под рукой. Хоть немножко – и боль унять можно. А дома… Все знала, но не смела перечить маминой воле: “Домой, быстрее домой!” А дома…
Мама не стонала, не жаловалась. Застоявшаяся в ней боль вырывалась не криком, а страдальческим словом одним: “Голова”. Мама перестала видеть. Невидящие глаза все время стояли на мне и больно пронизывали грудь.
– Не хотите ли чего-то, мама?
– Хочу, доченька, – ответила однажды. – Хочу выйти на улицу.
– Зима же. Холодно, вьюга. Вот придет весна скоро, слабость от вас отступит – и тогда уже выйдем на улицу.
– Придет весна… Я не могу ждать. Молю тебя: помоги мне. Только в сени, только к порогу.
И в сени добрались, и к порогу. Еще раз перед ним стала Палагна на коленях. Еще раз сдула пыль. Еще раз дрожащие пальцы гладили впадину, которая когда-то зарубкой была. В последний раз гладила. Прощалась мать со следом, который оставил отец.
Под вечер ей стало хуже. Не могла говорить, пересиливала себя.
– Должна тебе что-то сказать, дитя мое… Не убивайся за мной. Потому что кто же я тебе? Чужая. А ты… Ты – Колина дочка. Не пугайся. Этого никто не знает: мы приехали в село уже с тобой. Ты – Колина…
Если бы я знала! Если бы я знала… Я бы к ней, как к святой. А то – как к родной. Всякое бывало: и слово неосмотрительное из уст вылетало, и голос раздраженный был. Особенно тогда, когда дорастала… Когда на каникулы приезжала… Если бы я тогда понимала ее любовь, которой и любовью она никогда не называла. Просто любила, верила и ждала. Просто “твоя ладонь, моя ладонь…”